Не хочу своего, хочу приемного: откровенный разговор с экспертом про усыновление
В России 340 тысяч детей ждут семью, но 14 ежедневно возвращают в детдома. Почему усыновление превращается в трагедию и как избежать роковых ошибок — откровенно рассказала психолог из Владивостока специально для «ВВ».

По данным Минпросвещения в 2024 году в России было 340 тысяч детей-сирот, из них только 9% воспитывались в государственных учреждениях. В Приморье показатели сравнительно невысокие: из 1000 детей только 27 остаются без попечения родителей. Таких детей можно усыновить или взять под опеку: второй вариант встречается чаще. Подозревать опекунов в корысти не стоит – в приоритете у россиян безвозмездная опека. Однако помощь таким детям – это не только радость и гордость, тут есть место слезам, раздражению и даже отказу от своих обязанностей.
Не хочу своего, хочу приёмного

Анна и Максим абсолютно здоровы, вполне обеспечены и счастливы в браке уже пять лет. На вопрос о детях ещё на первом свидании Анна четко сказала «только приёмные». Максим так и не выяснил, что стоит за этим желанием: страх испортить фигуру, боязнь генетической поломки или просто желание помочь какой-то одинокой душе. Насколько здоровое желание принципиально взять малыша из приюта?
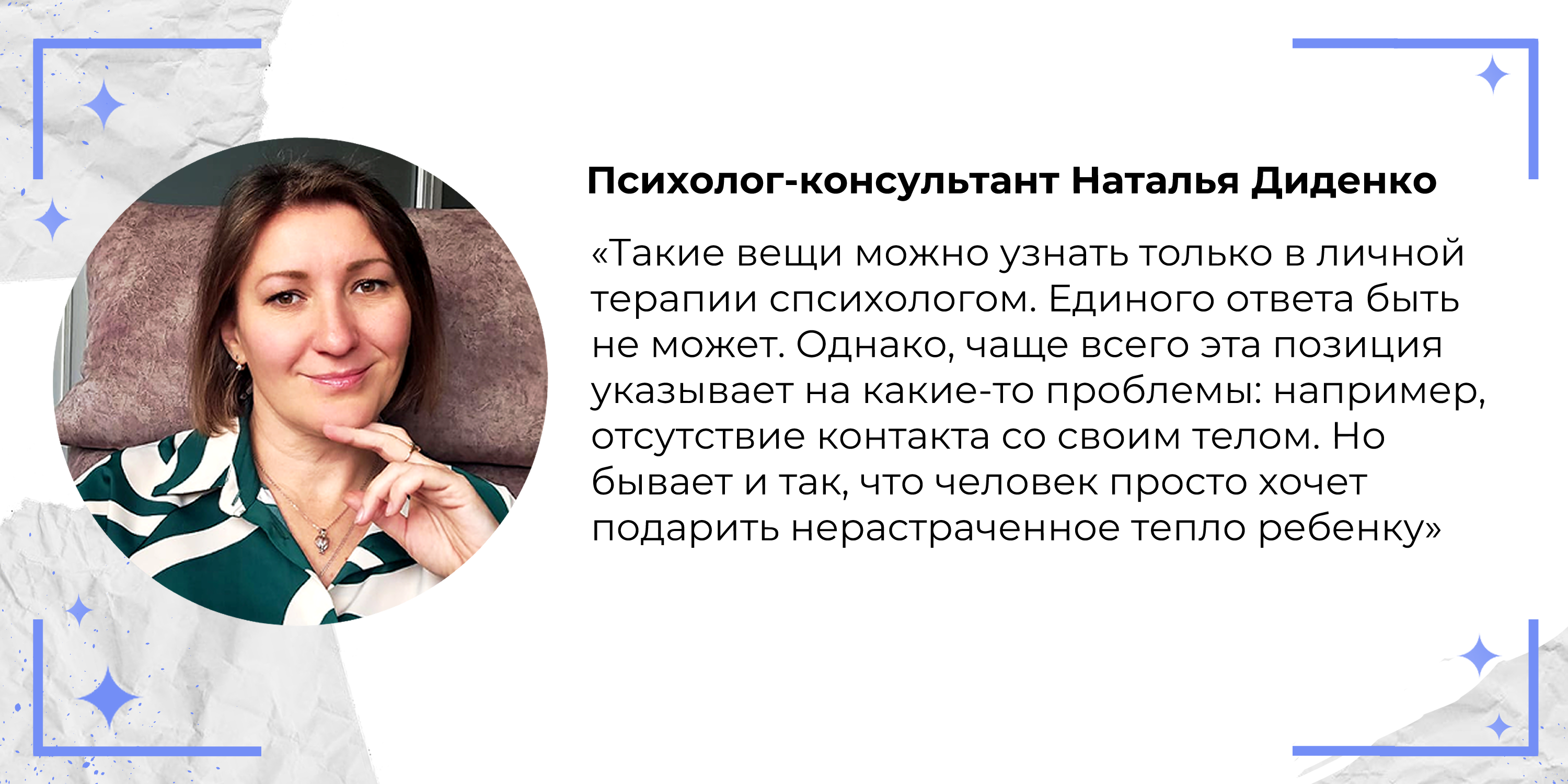
Не согласишься – разведусь
Мария и Иван на грани развода. Родить своих детей не получилось, приёмных Иван не хочет. Подчёркивает, что раз судьба не дала, то и не надо ему. Мария плачет, шантажирует и надеется, что он «перебесится». Насколько губительна такая ситуация для всех участников процесса?
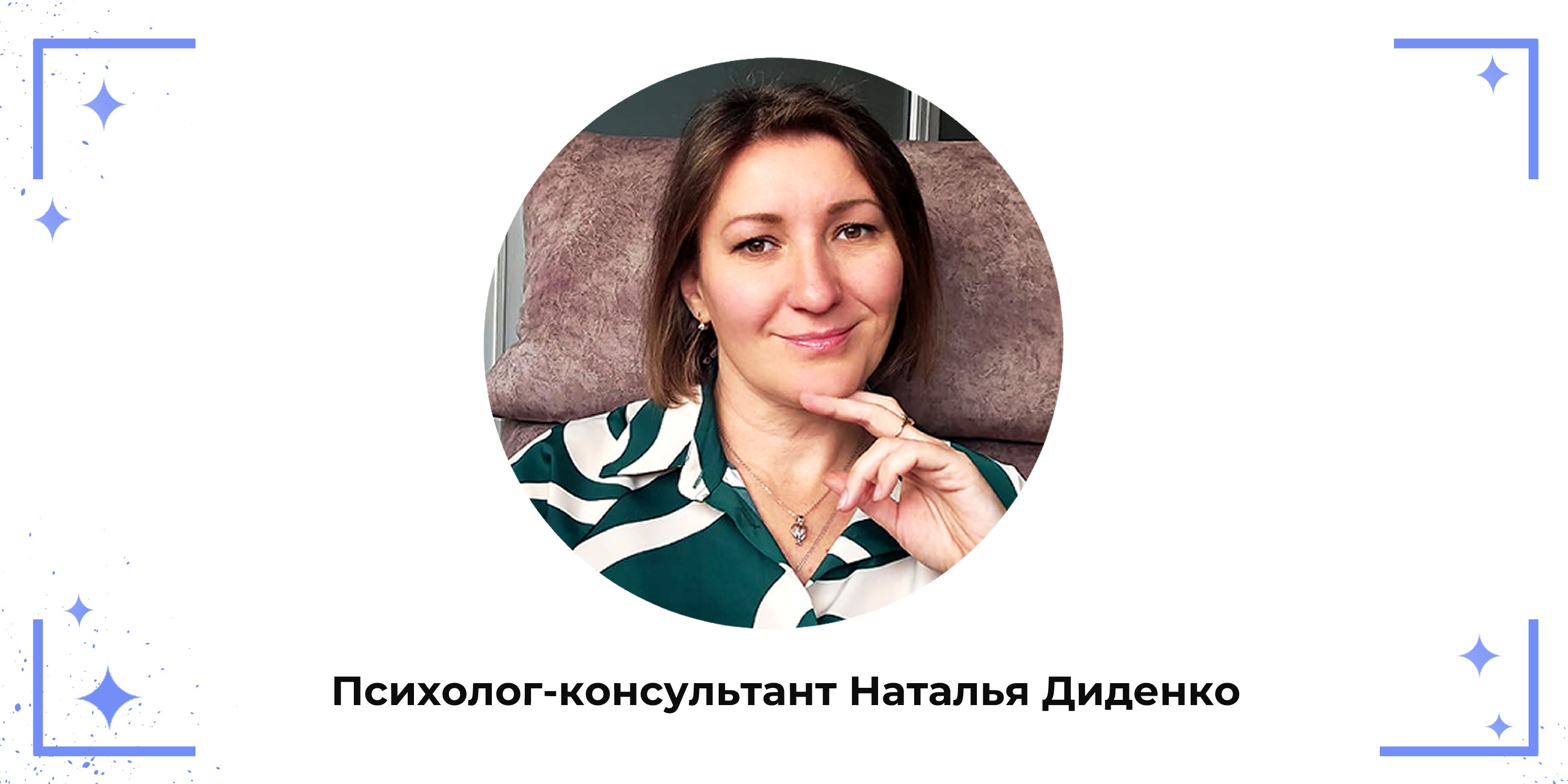
«Сошлюсь на клиентский случай, который приводил в пример Олег Матвеев, – практикующий психолог, член РПО. В его истории не девушка хотела детей, а мужчина. На приеме выяснилось, что она свою позицию озвучила ещё до свадьбы чётко и ясно. Мужчина, тем не менее, сделал ей предложение, надеясь, что что-то изменится и она передумает. И даже к психологу привёл из тех же побуждений. Чем это могло закончиться? Ничем, конечно.
Мы можем менять своё мнение по каким-то вопросам и даже не раз, но если человек здесь и сейчас озвучивает свою позицию, не надо идти в отношения с мыслью, что его можно перевоспитать!
Есть пять ключевых аспектов, которые необходимо обсуждать перед свадьбой: деньги, воспитание детей, совместный досуг, интимная близость и хобби. Любые манипуляции относительно этих вопросов могут закончиться печально.
Если говорить про ситуацию с ребёнком, то вообще трагически, уже для трёх людей. Предположим, что в итоге, та женщина «продавила» мужа, ребёнка взяли. Мужчине в этой семье место осталось? Или он теперь где-то сбоку? Ребёнку каково смотреть на такую модель отношений? Не будет ли он чувствовать вину за разлад в этой семье, замещать чужую роль?
Чьё место я занял?
Иногда в семье случается трагедия – погибает близкий человек: супруг, ребёнок, кто-то из родителей. И тогда, при условии чрезмерной привязанности, в попытках пережить горе, люди могут задуматься об усыновлении. Почему это плохая и опасная затея?
- Первая причина – ребёнок имеет свойство взрослеть. У него появляется собственное мнение, он может говорить и быть услышанным. И ждать от него полного согласия всегда и во всем не стоит. Он не будет видеть в вас царя и бога, – об этом тоже забудьте.
Вторая причина – вред ребенку. При усыновлении специалисты не зря задают вопрос – на чьё место он приходит? Потому что в семейной системе у каждого есть свое место. И когда в неё входит сторонний человек, он становится «заместителем», соответственно, начинает жить не свою жизнь. Начинает действовать, опираясь не на свои желания, а на чужие, не имеет права голоса… – так развивается глубокий внутренний конфликт.
Бывает, что в обычных семьях такие замещающие роли выполняют дети, рожденные уже после неудачно разрешившейся беременности или аборта. Во взрослой жизни такие люди приходят к психологу с запросом «я не знаю, кто я, не понимаю, чего хочу». И это родные дети, которые обладают генами определенной семьи, выросли в определенных условиях, по особому укладу, среди семейных убеждений и традиций. А тут условно «чужой» ребенок, со стороны, с совершенно другим набором убеждений и верований. Еще сложнее становится ситуация, - отмечает Наталья Диденко.
Он ворует и дерётся!
Валины радужные мечты о чудесной семье как в рекламе майонеза громко рухнули. Приёмный сын быстро начал врать, воровать и драться. Родственники сочувственно рекомендовали вернуть мальчика в детдом, муж тяжело вздыхал и делал вид, что его это не касается, учителя наседали с требованиями «как-то решить проблему». Валя в прострации, что делать – не знает.
– Это тот случай, когда надо обращаться к специалисту. Причём в терапии необходимо быть всем участникам процесса. Когда приводят ребёнка и говорят «исправьте его, он какой-то не такой» — это грустно.
В России есть замечательный ученый, автор множества книг, создатель фундаментальной программы обучения системных психотерапевтов, действующий психолог — Анна Варга. Она подчеркивает: семья – это система. Если ребёнок проявляет себя некорректно, агрессивно, значит в системе есть нарушения.
Дети могут показывать через неадекватное поведение «симптом семьи» - проблемы, неблагополучие семейной системы. Вопрос прежде всего стоит адресовать взрослым: что не так в системе, как можно это изменить, как поговорить с ребенком, что ему дать? В чем трудности общения, может его не слышат? Взрослые должны оставаться взрослыми и обеспечивать своим детям базовую безопасность – среду, в которой ребенок может проявляться, иметь право на свое мнение, на удовлетворение потребностей, быть услышанным, принятым, - уверена психолог.
Нужно научиться контакту

Перед рождением малыша родители часто обращаются к книгам, специалистам и близким. Что делать, как вести себя, какие опасности подстерегают в новом статусе? Перед усыновлением вопросы почти те же. Чему надо научиться?
- Контакту с собой. Мы ведь часто не знаем, как поведём себя в той или иной ситуации, проявляемся шаблонами или защитными механизмами. Изучите свою формулу «стимул – реакция». Как вы реагируете на стрессовые события? Всегда одинаково? Тогда есть ли развитие? Если я в избегающей стратегии, то меня невозможно растормошить ничем, я в свою «раковину» спрячусь и все.
Но, чтобы быть адаптивным, адекватным во взаимодействии с миром, стоит этот механизм учиться менять, возможно стать более гибким, занять свою ролевую позицию, отвечая на вопрос: «кто я сейчас?». Понять, что я этому ребёнку – родитель, не кто-то младший, равный или друг, а именно родитель.
Если я понимаю, что я такой же в этой позиции, как и мои родители, а меня это категорически не устраивает, то к психологу – изучать, как можно по-другому. Перед усыновлением ответьте себе, пожалуйста, на вопросы: «Кто я?», «Для чего я здесь?», «Каковы мои смыслы?», «Какова миссия?». Готов ли я столкнуться с тем, чего еще не видел, не трогал, не имел представления? – уточняет Наталья Диденко.
Не приму и всё!
Бывает и так, что родственники или друзья пары начинают высказывать своё мнение, говорить, что надо отказаться от ребёнка, рассказывают про гены, а то и вовсе ставят ультиматумы. Что делать в таких случаях?
- Уважайте их право не общаться с ребёнком. Они могут быть не согласны с вашими взглядами. Это их выбор. Они могут отвернуться, отсоединиться. И тогда стоит выбирать то, что важнее для вас, чем руководствуетесь, кого слушаете. Себя, своё нутро? А есть ли те, кто поддерживает? Соотношение между теми, кто станет вас поддерживать, и теми, кто покажет протест, будет всегда. И тогда как? Необходимо опору искать в себе, отстаивать свою позицию, иметь прочные убеждения. Тогда остальное будет второстепенно, - уверена психолог.
А если я его верну?

Трагические случаи возвращения детей в детский дом тоже бывают. По статистике службы «Милосердие» 14 детей ежедневно возвращаются назад из семей. Какие последствия у такого поворота судьбы для ребенка? И что делать, если так и не вышло полюбить приемного малыша?
- Такой отказ может привести к печальным итогам. Пожалуй, это однозначно психологическая травма. Она может вылиться в зависимость, неадекватную социализацию, даже в добровольный отказ от жизни! Не каждый человек сможет выдержать подобное и спокойно дальше строить свою жизнь. Если говорить о ситуации, когда ребёнок так и не стал родным, то первый вопрос – а что вы делали, чтобы стал?
Попробуйте ответить на него в диалоге с партнёром, близкими людьми или психологом. Иногда мы движемся по одному сценарию, который не работает, злимся, хотим избавиться от проблемы, назначая виновным другого человека. Но может проблема просто в неработающих инструментах? Дали ли вы ребёнку безопасное пространство, поддержку? Показали мир с разных сторон? Стали для него проводником? С детьми нельзя быть эгоистом, нельзя думать только о своем комфорте, необходим баланс, - отмечает Наталья Диденко.
Как пройти этот путь?
Чтобы усыновление или удочерение прошло максимально позитивно, эксперты советуют соблюдать простые правила. Во-первых, учиться преодолевать конфликты, благодаря которым мы развиваемся. Во-вторых, помнить, что опора должна быть на себя – свои чувства, мысли, ощущения.
- В конфликтах важно обращать внимание на две вещи: с чем я справляюсь и с чем не справляюсь. Анализировать что получается, а что нет. Искать внутреннее безопасное пространство, позволяющее оставаться в спокойствии наедине с собой, тем самым помогая себе, затем и ребенку.
Если говорить про опору на себя, то она должна быть прочной. Когда я растворяюсь в другом человеке, то меня нет, не существует. Я не справляюсь со своими чувствами, с одиночеством, с кризисами. А как при таком раскладе стать видимым, понятным и значимым для ребёнка? Когда я вижу себя и свои потребности, понимаю, что могу их удовлетворить самостоятельно и беру за это ответственность, то я становлюсь стабильным, ясным для другого человека. Пожалуй, только тогда я могу помочь ребенку и оказать ему поддержку, - резюмирует психолог.
Изображения сгенерированы при использовании нейросети




